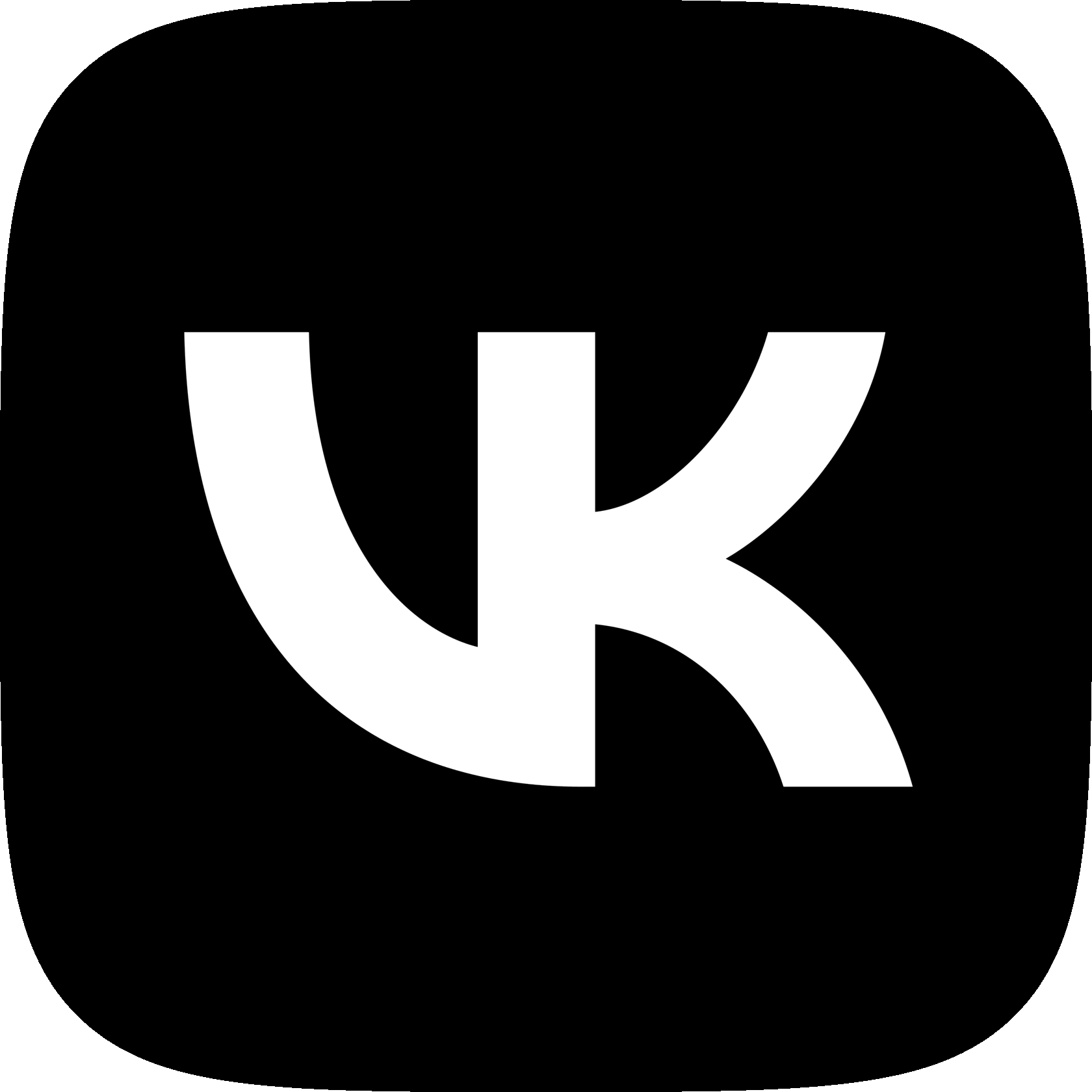07.02.2013
У группы «Россия»
Митя Нестеров
У группы «Россия»
Митя Нестеров
Беседа с художниками Иваном и Егором Дмитриевыми — о Сезанне, Медицинской Герменевтике и том, где реалисты рисуют лошадь.
Публикуется c разрешения сайта Syg.ma, где текст вышел изначально.
Публикуется c разрешения сайта Syg.ma, где текст вышел изначально.

Иван и Егор Дмитриевы. Фото: Митя Нестеров
Иван Дмитриев. Должен быть личностный стиль. Я сам к нему, конечно же, себя не совсем отношу, но если иметь в виду какую-то альтернативу существующему, то в настоящем я вижу два определяющих маркера в творчестве художников. Это, во-первых, перфектность. Неудачных работ ни у кого нет. Звездочётов всегда Звездочётов, Полисский всегда Полисский…
Егор Дмитриев. Узнаваемость.
И.Д. Да, узнаваемость. Дубосарский всегда Дубосарский. Всегда узнаётся и всегда понятно, что Дубосарский. А вот, хорошая работа у Дубосарского вышла нынче, или плохая, как бывало раньше, такого не услышишь. Не услышишь, что вот Дубосарский с Виноградовым сделали очень удачные работы. Они их всегда делают удачно.
Они всегда удачные, и это очень прискорбно…
Е.Д. С точки зрения дискурса, каждый говорит, что работы удачные, со своей позиции. Для Риффа кажутся удачными их работы, где книги и зайчики солнечные, а для Лёши Беляева…
И.Д. Где волки нападают на отстреливающуюся Русь.
Митя Нестеров. Опять же, проблемы дискурса внеположны проблемам эстетики.
И.Д. Не положены искусству. Безусловно. Эстетике придан характер признака, то есть манеры художника, и соответственно если она есть, эта фишка, манера, знак художника, кто-то скотчем рисует, кто-то ещё чем-нибудь, то это уже является свидетельством наличия языка, наличия собственного мира.
Е.Д. В этом контексте живописец может быть один, его фишка — делать живопись.
И.Д. Два.
Е.Д. Да, может быть, даже две-три живописи разных.
И.Д. Не более. Но дело не в этом. Дело в том, что таким образом всё искусство превращается в китайское. Или в жостовские подносы. Там только коллективная, но фишка: они кладут мазок так, так и так, и получается розочка. Приблизительно то же самое я вижу в технологии производства современного искусства.
Е.Д. У них тоже неудачного нет.
И.Д. Китайцы всегда правы. Ты не можешь сказать, вот эта лошадь хуже этой лошади, они обе не похожи на реальную лошадь, но сделаны великим китайским мастером. Тушь растекается, все признаки и маркеры китайского искусства всегда представлены: хорошая бумага, хорошая тушь.
Е.Д. Но европеец может уже различать: Ци Байши гений, а этот посредственность.
М.Н. Это же строго регламентированная сакральная практика. Религиозное искусство.
И.Д. Факт. Не понятно, есть ли вообще китайское искусство.
Е.Д. Есть, я видел совеременных китайских скульпторов, в контексте работающих, но всё это настолько явное выполнение заказа кураторского.
И.Д. Они идеально попадают в современную концепцию искусства: послушны, чувстительны, мастеровиты, то, что надо куратору от художника. Тотальной альтернативой этому, на мой вкус, является, скажем, творчество Сезанна и Ван Гога.
Сезанн каждую свою работу считал неудачной. Что он тем самым обретал? Бесконечную свежесть восприятия нового в своей работе.
И.Д. Где волки нападают на отстреливающуюся Русь.
Митя Нестеров. Опять же, проблемы дискурса внеположны проблемам эстетики.
И.Д. Не положены искусству. Безусловно. Эстетике придан характер признака, то есть манеры художника, и соответственно если она есть, эта фишка, манера, знак художника, кто-то скотчем рисует, кто-то ещё чем-нибудь, то это уже является свидетельством наличия языка, наличия собственного мира.
Е.Д. В этом контексте живописец может быть один, его фишка — делать живопись.
И.Д. Два.
Е.Д. Да, может быть, даже две-три живописи разных.
И.Д. Не более. Но дело не в этом. Дело в том, что таким образом всё искусство превращается в китайское. Или в жостовские подносы. Там только коллективная, но фишка: они кладут мазок так, так и так, и получается розочка. Приблизительно то же самое я вижу в технологии производства современного искусства.
Е.Д. У них тоже неудачного нет.
И.Д. Китайцы всегда правы. Ты не можешь сказать, вот эта лошадь хуже этой лошади, они обе не похожи на реальную лошадь, но сделаны великим китайским мастером. Тушь растекается, все признаки и маркеры китайского искусства всегда представлены: хорошая бумага, хорошая тушь.
Е.Д. Но европеец может уже различать: Ци Байши гений, а этот посредственность.
М.Н. Это же строго регламентированная сакральная практика. Религиозное искусство.
И.Д. Факт. Не понятно, есть ли вообще китайское искусство.
Е.Д. Есть, я видел совеременных китайских скульпторов, в контексте работающих, но всё это настолько явное выполнение заказа кураторского.
И.Д. Они идеально попадают в современную концепцию искусства: послушны, чувстительны, мастеровиты, то, что надо куратору от художника. Тотальной альтернативой этому, на мой вкус, является, скажем, творчество Сезанна и Ван Гога.
Сезанн каждую свою работу считал неудачной. Что он тем самым обретал? Бесконечную свежесть восприятия нового в своей работе.
В своём одном и том же языке, своей попытке совместить классическое искусство с новым видением цвета, он раздвигал границы этой очень ограниченной задачи тем, что он никогда её не достигал. Жил в предвкушении завтрашнего дня в своей мастерской. Главное: имел право на ошибку. Да, очень плохо поработал вчера, ужасно, читаешь в дневниках. Какой кошмар, какая гадость, что я наделал, я испортил всю работу. Таким образом он решает свою проблему мастеровитости: он не останавливается в поисках неоплатонического идеала персика или горы. Он всё время движется, и путь его бесконечен. А китайский мастер вынужден воспроисводить сам себя.
[Пауза]
И.Д. Такая ситуация создаёт почву для возникновения амбиций всевозможного рода. Кажется, чем больше постмодернного, ироничного представления о происходящем, будут так же точно, с той же силой отталкивания от мягкой манеры Серебряного века, не включающей художника ни в одно из произведений, возникать фигуры уже двадцатых годов, где люди, как Филонов, считали, что создают новое искусство, и достигали на этой идее такой степени аскетизма, что считали свою жизнь на еду, которую переводили в краски. Он считал, что вот мешок картошки — это значит он может написать ещё пять холстов из цикла «Пролетариат России». Бред абсолютно конкретный. Кажется, что он и порождался ситуацией Серебряного века, где ничего не делалаось без оговорки, что это шутка, что это сказка.
Е.Д. У Филонова там серьёзка.
И.Д. Не только у него. У Татлина. У всех всё очень серьёзно, и посмотрите, как это меняло… Что-то подобное сейчас. При очень культурной ситуации сегодняшней должна прийти менее культурная, более грубая. Она и приходит. Граффити, например. Но граффити, извините, это отдельный вид искусства, стрит-арт, и сравнивать его с искусством не стоит, там слишком много от другого.
Е.Д. Там слишком много от дизайна, всё тоже быстрое и перфектное. Дима Файн вот считает, что это самое современное, он подписан на все подборки граффити мирового, и там всё, и реализм, и сюрреализм.
И.Д. Граффити можно заниматься. Это инструмент. Но формально там всё очень однообразно, поиска формы не происходит.
Е.Д. Главное, у китайцев нет претензии на абсолют, они претендуют на конкретные вещи, сделать что-то. У европейского художника обязательно сверхзадача, поэтому не получается ничего.
И.Д. Сезанн рассматривал живопись как ревнивую любовницу. Он считал, что это та женщина, которая ему никогда не изменит, у него были рефлексии сексуального характера.
Е.Д. И никогда не даст.
И.Д. Это именно о нём. Это его и пёрло. Иногда у него получались вещи, между тем, настолько совершенные, что, скажем, искусство Бидермайера, претендующее тоже на какую-то простоту и античность, просто выглядит тошнотворной конфетной коробкой рядом с его Сент-Виктуар или персиками. Мой любимый натюрморт в Пушкинском музее:
чистота инопланетянина, элиена во взгляде на всё.
Искусство, порождённое им, Марке, Хоппер, всё, что удерживалось на границе дизайна и высказывания, на мой вкус, если говорить о языке живописи, представляется наиболее (Е.Д. Очень паттернистической) перспективной областью разработок. Там можно искать бесконечно, вот эту грань между условностью и реальностью.
[Пауза]
[Пауза]
И.Д. Такая ситуация создаёт почву для возникновения амбиций всевозможного рода. Кажется, чем больше постмодернного, ироничного представления о происходящем, будут так же точно, с той же силой отталкивания от мягкой манеры Серебряного века, не включающей художника ни в одно из произведений, возникать фигуры уже двадцатых годов, где люди, как Филонов, считали, что создают новое искусство, и достигали на этой идее такой степени аскетизма, что считали свою жизнь на еду, которую переводили в краски. Он считал, что вот мешок картошки — это значит он может написать ещё пять холстов из цикла «Пролетариат России». Бред абсолютно конкретный. Кажется, что он и порождался ситуацией Серебряного века, где ничего не делалаось без оговорки, что это шутка, что это сказка.
Е.Д. У Филонова там серьёзка.
И.Д. Не только у него. У Татлина. У всех всё очень серьёзно, и посмотрите, как это меняло… Что-то подобное сейчас. При очень культурной ситуации сегодняшней должна прийти менее культурная, более грубая. Она и приходит. Граффити, например. Но граффити, извините, это отдельный вид искусства, стрит-арт, и сравнивать его с искусством не стоит, там слишком много от другого.
Е.Д. Там слишком много от дизайна, всё тоже быстрое и перфектное. Дима Файн вот считает, что это самое современное, он подписан на все подборки граффити мирового, и там всё, и реализм, и сюрреализм.
И.Д. Граффити можно заниматься. Это инструмент. Но формально там всё очень однообразно, поиска формы не происходит.
Е.Д. Главное, у китайцев нет претензии на абсолют, они претендуют на конкретные вещи, сделать что-то. У европейского художника обязательно сверхзадача, поэтому не получается ничего.
И.Д. Сезанн рассматривал живопись как ревнивую любовницу. Он считал, что это та женщина, которая ему никогда не изменит, у него были рефлексии сексуального характера.
Е.Д. И никогда не даст.
И.Д. Это именно о нём. Это его и пёрло. Иногда у него получались вещи, между тем, настолько совершенные, что, скажем, искусство Бидермайера, претендующее тоже на какую-то простоту и античность, просто выглядит тошнотворной конфетной коробкой рядом с его Сент-Виктуар или персиками. Мой любимый натюрморт в Пушкинском музее:
чистота инопланетянина, элиена во взгляде на всё.
Искусство, порождённое им, Марке, Хоппер, всё, что удерживалось на границе дизайна и высказывания, на мой вкус, если говорить о языке живописи, представляется наиболее (Е.Д. Очень паттернистической) перспективной областью разработок. Там можно искать бесконечно, вот эту грань между условностью и реальностью.
[Пауза]
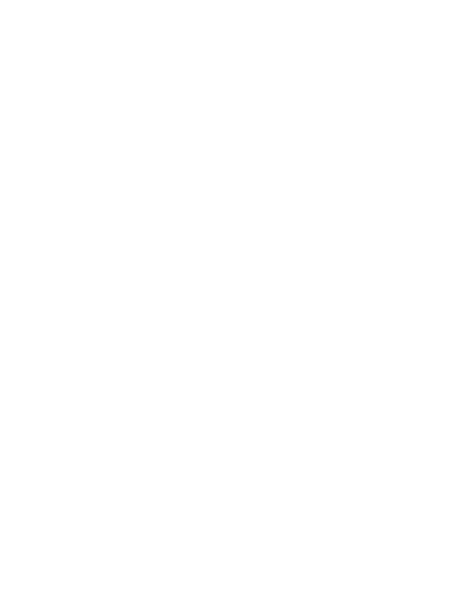
Иван Дмитриев. Фото: Митя Нестеров
Мы тут интересно с Олей разговаривали. С моей точки зрения, Книга Перемен, система триграмм, от Цянь, через гром, или, как они это транслируют, небо — отец, потом первый сын — гром, второй сын — вода, третий сын — гора, мать — земля, первая дочь — ветер, вторая дочь — огонь, третья дочь — водоём, это сочетание мягких и жёстких качеств, прерывистых и цельных, их взаимодействие. Так вот, интересна в этом круге мне была, в одной из схем, нарисованных каким-то исследователем типа Маслова, такая последовательность: после неба идёт возбуждение, потом вода — погружение, потом гора — пребывание, потом, естественно, точка смерти, точка чрева материнского, как бы не-существования, и при переходе из неё возникает ветер, первая дочь — сцепление, огонь, вторая — ясность, и третья, водоём — радость.
Мы видим здесь весь процесс творческого акта. Человек возбуждается идеей создания, далее со страхом погружается в материал, пребывает в нём, умирает в этом материале, растворяясь, в точке смерти возникает новое сцепление всей информации, которую он освоил, и возникет радость узнавания образа, подчерпнутого при переходе, радость нового построения, новой ясности предмета изучаемого или творимого.
Е.Д. Я забыл, после ветра что?
И.Д. После ветра огонь, огонь и есть ясность, а водоём — это радость.
Е.Д. Забыли ясность.
И.Д. Ясность всегда посередине, напротив погружения. Вот и с ребятами мы об этом говорили, кто-то сказал, у меня не так, я ни во что не погружаюсь, я сажусь и знаю, что я буду делать, и подумалось, что я тоже так во многом.
Концептуализм и есть вот эта преждевременная ясность предмета, без прохождения через погружение в материал, поэтому я бы обвинил современное искусство в скучности, в схематичности, отсутствии именно этого сбора материала и рождения идеи.
Е.Д. Может быть, погружение в материал татлиновское, в материал, из которого ты делаешь иллюзии, в любом случае, это интуитивная фаза. В современном искусстве, конечно, выпадают все интуитивные фазы, оставляя только сознательное…
И.Д. Тупое насилие над публикой.
Е.Д. Поэтому в современном искусстве практически нет работ, которые тебя приглашали бы внутрь, заманивали, были бы незаметными. Все они видны сразу, бросаются в глаза, кричат тебе, плакаты такие.
И.Д. Тупость ужасная. Что действительно тотально, и ничего поделать с этим пока никто не может, это формирование кем-то заведомо художественного процесса. Как бы кто-то, целая группа товарищей, коллегиально решает, каким быть современному искусству, выясняет это в статьях между собой, и в практике, абсолютно забывая при этом, что
целью современного искусства является создание искусства несовременного, искусства будущего.
Е.Д. Мы сегодня как раз говорили о том, что было в 90-е, когда совриск был ещё не актуальным искусством, а андеграундным, субкультурным явлением, и ориентировался на непонятность и футуризм, на то, что эти работы потом будут поняты.
И.Д. Я бы не сказал, что работа, например, Алексея Беляева-Гинтовта, в девяносто втором году обклеенный валенками самолёт, кому-то казалась серьёзным явлением. Или его же совместная инсталляция с Преображенским, с птеродактилем, в санях две восковые фигуры, это же серьёзно.
Е.Д. Серьёзней того, за что ему дали премию Кандинского.
И.Д. Тогда ещё не было даже мысли о том, что у нас будут править двое. Консулат — это будущее России, а вот они консулы, едут. Эта работа была профетической, предсказывающей будущее, а не актуальной сейчас. Немножко отстающее, иллюстрирующее новости — вот что такое сейчас современное искусство. Совриск в девяностые — это так, несерьёзными людьми сделанные несерьёзные вещи, абсолютно непонятные на фоне модернизма Целкова и Брускина, серьёзных борцов за демократию. А это что такое? Клоуны. Renaldo and the Loaf.
Е.Д. Но для истории как раз они должны были остаться серьёзными. Надо сказать, что и период этот как бы затёрт, его как бы не замечают сейчас.
И.Д. Он самый мощный был и у Беляева, и у Преображенского, и у многих других.
Е.Д. Сейчас эти художники существуют в абсолютно иной форме.
[Пауза]
Мы видим здесь весь процесс творческого акта. Человек возбуждается идеей создания, далее со страхом погружается в материал, пребывает в нём, умирает в этом материале, растворяясь, в точке смерти возникает новое сцепление всей информации, которую он освоил, и возникет радость узнавания образа, подчерпнутого при переходе, радость нового построения, новой ясности предмета изучаемого или творимого.
Е.Д. Я забыл, после ветра что?
И.Д. После ветра огонь, огонь и есть ясность, а водоём — это радость.
Е.Д. Забыли ясность.
И.Д. Ясность всегда посередине, напротив погружения. Вот и с ребятами мы об этом говорили, кто-то сказал, у меня не так, я ни во что не погружаюсь, я сажусь и знаю, что я буду делать, и подумалось, что я тоже так во многом.
Концептуализм и есть вот эта преждевременная ясность предмета, без прохождения через погружение в материал, поэтому я бы обвинил современное искусство в скучности, в схематичности, отсутствии именно этого сбора материала и рождения идеи.
Е.Д. Может быть, погружение в материал татлиновское, в материал, из которого ты делаешь иллюзии, в любом случае, это интуитивная фаза. В современном искусстве, конечно, выпадают все интуитивные фазы, оставляя только сознательное…
И.Д. Тупое насилие над публикой.
Е.Д. Поэтому в современном искусстве практически нет работ, которые тебя приглашали бы внутрь, заманивали, были бы незаметными. Все они видны сразу, бросаются в глаза, кричат тебе, плакаты такие.
И.Д. Тупость ужасная. Что действительно тотально, и ничего поделать с этим пока никто не может, это формирование кем-то заведомо художественного процесса. Как бы кто-то, целая группа товарищей, коллегиально решает, каким быть современному искусству, выясняет это в статьях между собой, и в практике, абсолютно забывая при этом, что
целью современного искусства является создание искусства несовременного, искусства будущего.
Е.Д. Мы сегодня как раз говорили о том, что было в 90-е, когда совриск был ещё не актуальным искусством, а андеграундным, субкультурным явлением, и ориентировался на непонятность и футуризм, на то, что эти работы потом будут поняты.
И.Д. Я бы не сказал, что работа, например, Алексея Беляева-Гинтовта, в девяносто втором году обклеенный валенками самолёт, кому-то казалась серьёзным явлением. Или его же совместная инсталляция с Преображенским, с птеродактилем, в санях две восковые фигуры, это же серьёзно.
Е.Д. Серьёзней того, за что ему дали премию Кандинского.
И.Д. Тогда ещё не было даже мысли о том, что у нас будут править двое. Консулат — это будущее России, а вот они консулы, едут. Эта работа была профетической, предсказывающей будущее, а не актуальной сейчас. Немножко отстающее, иллюстрирующее новости — вот что такое сейчас современное искусство. Совриск в девяностые — это так, несерьёзными людьми сделанные несерьёзные вещи, абсолютно непонятные на фоне модернизма Целкова и Брускина, серьёзных борцов за демократию. А это что такое? Клоуны. Renaldo and the Loaf.
Е.Д. Но для истории как раз они должны были остаться серьёзными. Надо сказать, что и период этот как бы затёрт, его как бы не замечают сейчас.
И.Д. Он самый мощный был и у Беляева, и у Преображенского, и у многих других.
Е.Д. Сейчас эти художники существуют в абсолютно иной форме.
[Пауза]
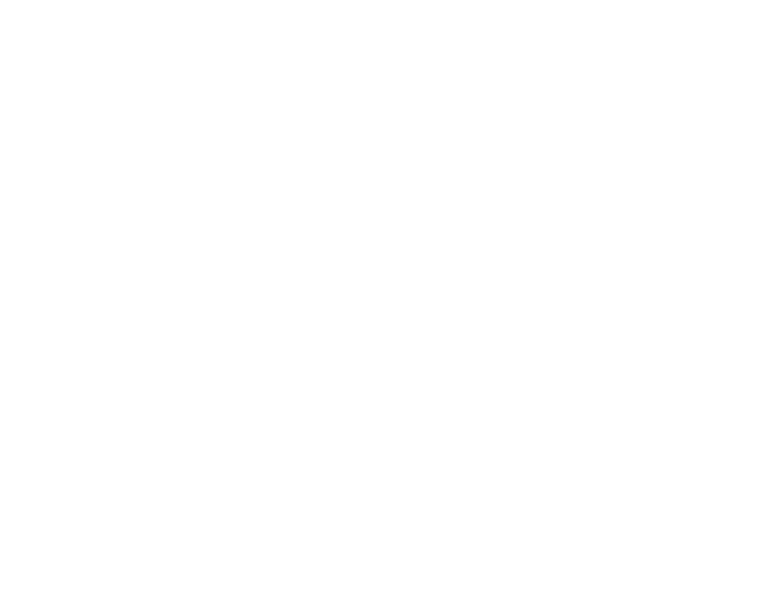
Егор Дмитриев. Фото: Митя Нестеров
И.Д. Вспоминая «Пирамиду» Леонова, представителя второго поколения русских модернистов, ученика Платонова, уже не создателя, а как бы мастера социалистического реализма, вкусившего от пассионарного толчка революции и вылетевшего аж в 80-е. Так они как-то на чистой литературе и просуществовали. Рассуждая о нём, скажу, что сейчас современное искусство вступило в фазу, когда оно знает о себе, знает свои параметры, что можно, что нельзя, и в нём вновь должны появиться фигуры, подобные Леонову, Бондарчуку, Герасимову, таким монстрам стиля.
Кто сейчас?
Я вот так не могу сказать. Гутов какой-нибудь? Нет, скучно, дико скучно. У него дизайнерские вещицы. Ковочка, ковочка такая, вполне лужковская. Лампочку сзади поставил, красота, ещё на стенке так отразится. Гутов, если честно, комичен. Выходит, что современное искусство не развилось в нечто плодоносное, оно скорее пытается приспособиться. Некоторые, находясь в этой области, прекрасно рисуют и получают удовольствие от того же, от чего и мы. Алексей Морозов, кстати.
Е.Д. Лёша Морозов ушёл в дизайн, чистой коммерцией занимается, насколько я знаю. Он же даже тогда отказался с нами участвовать, с батюшкой не хотел висеть твоим, сказал, что убивающий быка и батюшка не могут висеть вместе.
И.Д. Да, это правильно. Он быка перевесил, а оставил свои скульптуры. Это была такая экспозиция, где выставялись я, Морозов и Беляев, называлось всё «Правый фронт».
Е.Д. Совсем вспомнили что-то нехорошее. (Смеются)
И.Д. Нехорошее, да. Не помню, в каком году это было. Тогда ещё давали отсеки в Манеже за так, не за деньги, а просто приглашали и говорили, идея есть, повисишь.
Е.Д. В Арт Манеже мы участвовали неплохо, когда Якут делал.
И.Д. Якут шикарно делал. А это было уже позже Якута.
Е.Д. Тогда для Якута мы специально для Манежа рисовали, нас допустили на эти леса, ещё до пожара, очень круто было. Там, оказывается, лежали слои табака голландского под крышей, их убрали в какой-то момент при Лужке, и крыша начала проседать. Мастера сказали, что всё хреново, и Манеж будут сносить. Через несколько лет он сгорел. Градус просадки корабельных лесов крыши был очень большой. Табак убрали зря: он впитывал влагу, сохранял оригинальный микроклимат.
И.Д. Мы там сделали шесть на три метра холст по эскизам Беляева, по сну.
[Пауза]
И.Д. Очень интересная инсталляция, сейчас она была бы очень актуальной, это «Портрет
старика» Медгерменевтики, 91-го года, по-моему, или 92-го, в Мраморном дворце. Там вокруг истории с художником Чартковым из рассказа Николая Васильевича Гоголя. С ним произошла такая история, что будучи художником амбициозным и предпочитавшим служить искусству, а не людям, он рисовал слугу Степана, улицу, и был беден. Как-то, проходя мимо лавки старьёвщика, он увидел привлекший его внимание портрет и зачем-то его купил на последние деньги. Придя домой, поставил его к стене, а на следующий день пришедший выселять его квартальный схватил этот портрет, чтобы разглядеть его стоимость, и поломал рамочку, и из этой рамочки как-то так незаметно выкатились пятьдесят золотых прямо в руки художнику. Он на эти деньги снаряжает мастерскую, становится удачным салонным живописцем, и дальше покатилось.
Инсталляция Паши [Пепперштейна] представляла собой четыре картины-схемы. Первая была посвящена романтизму, вторая — салону, третья — модернизму, а четвёртая — постмодернизму, и на каждой из них рисовались такие иллюстрации из этих периодов, описанных Гоголем: слуга Степан, валенок, художник с чашкой чая перед мольбертом. Такие скромные, трогательные картины. Вторая картина: личико Психеи превращается в личинку. Лицо — личико — личинка. Третий период: после того, как он уже превратился в личинку, он начинает собирать талантливые произведения своих коллег и резать их ножом. У Паши такая схема, изображающая ножом вспоротый холст. И последняя схема — множащиеся портреты этого азиата в чалме с безумным взглядом, ростовщика, как Уорхола.
Идея в том, что искусством со времён романтизма стали управлять деньги, и деньги привели искусство к тому, чем оно сейчас стало, то есть постмодернизмом. Дополнительно к этим четырём схемам мной был написан портрет этого старика, состарен в Русском музее специалистами из их реставрационной мастерской специальным лаком. Вставлены в раму были пятьдесят золотых червонцев, взятые по документации в том же Эрмитаже, а перед стариком была установлена железная труба, прикрученная к полу, изображавшая такой рычаг, от которого тянулись верёвочки к углам четырёх картин-схем, получалось шестнадцать верёвочек, так что весь зал представлял из себя такую паутину, сходившуюся на этом рычаге непосредственно перед портретом, написанным мной чисто по описанию Гоголя.
Портрет зверский, он остался, а Паша свою часть инсталляции потерял. Он сделал её на очень плохом оргалите с блестящей стороны, и она вся, стоя вот здесь у нас и хранясь, облезла, как сплошной лист, как отделяется латекс от несцепляемой поверхности. Очень жалко, сейчас с удовольствием бы видел эту инсталляцию снова. Поучительно. Совсем в духе того, что сейчас происходит.
М.Н. Вот летом в «Риджине» же была реплика другой инсталляции МГ, «Трубы долголетия».
И.Д. У них вообще все их инсталляции ранние… А «Боковое пространство сакрального», где они фотографировали иконы не в фас, а в три четверти, чтобы показать, что у иконы есть бок. Или «Ортодоксальные обсосы», которые были выставлены в Базеле, что ли: качественные крупные фотопортреты архимандритов, смотрящих прямо на зрителя, под которыми стояли блюдечки, на них лежали косточки, с веточками, но без мякоти. Их объедали и клали на блюдечко. Перед каждым стояло такое блюдечко с объеденными косточками. Называлось «Ортодоксальные обсосы». Сейчас попробуй такое выставить. «Осторожно, религия» отдыхает. 90-е были совершенно уникальными, не понятно, как это случиться могло вообще. Кажется, что весь бред, который вокруг творится, очень кратковременный. Не может быть такое долго.
М.Н. Как с этих позициий можно прокомментировать постулируемую нами необходимость возрождения искусства жизни, переноса акцентов на «голую жизнь»? Подлинным продуктом является не продукт, привязанный к рынку, а сам процесс. И вопросы эстетические так же должны быть перенесены в эту сферу.
И.Д. Это правильно.
И Сезанн отвечает вам на эти вопросы,
он всю дискурсивную историю переносит в пластическую тему своей жизни. Да, вот хотел сказать ещё что мне мерещится в том, что говорит о жизнетворчестве Сергей Ануфриев. Это то, что мир становится снова античным, соответственно, живопись наряду с другими формами искусства занимает только какую-то отдельную часть. Стоит нам всем помнить, что жизнь это не только искусство, но многое-многое другое. Если считать, что продуктом Сезанна были его картины, то это будет не совсем правильно. Продукта было мало, продукт был не первого сорта, продукт был не товарный, продукт был, в общем, не продукт, но эта его упёртость, его преданность и бескорыстность по отношению к поиску идеала, приводящему его иногда к удачам, иногда к поражениям, и является его жизнью, запечатлённой в его артефактах. Художник и есть — жизнь, запечатлённая в артефактах.
Почему Модильяни вот такой?
Потому что он пил вино и жахался героином, и не жил у себя дома, жил по друзьям и писал картины на чём попало, но при этом не терял художнический облик, и вопросы формы занимали его даже в самом униженном его состоянии, и конечно же, мы отдаём дань не только искусству этого художника, но нам кажется, что на искусстве его условия жизни тоже отразились, его готовность идти до конца в своей неадекватности. Как бы, были варианты. Из хорошей еврейской семьи итальянской, эх занесло пацана. Зато девушки любили, друзей было много, вообще жизнь была прекрасная. Я, во всяком случае, когда о нём читал, будучи подростком, я завидовал. Это всё видно в его образах, вся его жизнь в этих образах есть.
Необязательно это перекладывать так на литературу, как было в девятнадцатом веке, но надо считать, что если этого нет, не чувствуется, если чувствуется чистая схема, когда художник знает, как положить краски, и механически это делает, у него нет использования метода для постижения, у него есть ретрансляция метода. Если мы видим такого, он кажется нам уже несовременным художником, хотя таких сейчас большинство.
М.Н. Механически класть краску может робот, у группы «Гутай» была такая история
с механизмом, который кидался краской. Были мобили Жана Тэнгли. Или Аниш Капур.
Е.Д. С другой стороны, творчество Кабакова было во многом основано на этом
механистичном и антихудожественном ощущении. Автоматизм в искусстве ещё частенько занимал психиатров.
И.Д. О да. Ведь художник всегда исследует собственное восприятие.
[Пауза]
Кто сейчас?
Я вот так не могу сказать. Гутов какой-нибудь? Нет, скучно, дико скучно. У него дизайнерские вещицы. Ковочка, ковочка такая, вполне лужковская. Лампочку сзади поставил, красота, ещё на стенке так отразится. Гутов, если честно, комичен. Выходит, что современное искусство не развилось в нечто плодоносное, оно скорее пытается приспособиться. Некоторые, находясь в этой области, прекрасно рисуют и получают удовольствие от того же, от чего и мы. Алексей Морозов, кстати.
Е.Д. Лёша Морозов ушёл в дизайн, чистой коммерцией занимается, насколько я знаю. Он же даже тогда отказался с нами участвовать, с батюшкой не хотел висеть твоим, сказал, что убивающий быка и батюшка не могут висеть вместе.
И.Д. Да, это правильно. Он быка перевесил, а оставил свои скульптуры. Это была такая экспозиция, где выставялись я, Морозов и Беляев, называлось всё «Правый фронт».
Е.Д. Совсем вспомнили что-то нехорошее. (Смеются)
И.Д. Нехорошее, да. Не помню, в каком году это было. Тогда ещё давали отсеки в Манеже за так, не за деньги, а просто приглашали и говорили, идея есть, повисишь.
Е.Д. В Арт Манеже мы участвовали неплохо, когда Якут делал.
И.Д. Якут шикарно делал. А это было уже позже Якута.
Е.Д. Тогда для Якута мы специально для Манежа рисовали, нас допустили на эти леса, ещё до пожара, очень круто было. Там, оказывается, лежали слои табака голландского под крышей, их убрали в какой-то момент при Лужке, и крыша начала проседать. Мастера сказали, что всё хреново, и Манеж будут сносить. Через несколько лет он сгорел. Градус просадки корабельных лесов крыши был очень большой. Табак убрали зря: он впитывал влагу, сохранял оригинальный микроклимат.
И.Д. Мы там сделали шесть на три метра холст по эскизам Беляева, по сну.
[Пауза]
И.Д. Очень интересная инсталляция, сейчас она была бы очень актуальной, это «Портрет
старика» Медгерменевтики, 91-го года, по-моему, или 92-го, в Мраморном дворце. Там вокруг истории с художником Чартковым из рассказа Николая Васильевича Гоголя. С ним произошла такая история, что будучи художником амбициозным и предпочитавшим служить искусству, а не людям, он рисовал слугу Степана, улицу, и был беден. Как-то, проходя мимо лавки старьёвщика, он увидел привлекший его внимание портрет и зачем-то его купил на последние деньги. Придя домой, поставил его к стене, а на следующий день пришедший выселять его квартальный схватил этот портрет, чтобы разглядеть его стоимость, и поломал рамочку, и из этой рамочки как-то так незаметно выкатились пятьдесят золотых прямо в руки художнику. Он на эти деньги снаряжает мастерскую, становится удачным салонным живописцем, и дальше покатилось.
Инсталляция Паши [Пепперштейна] представляла собой четыре картины-схемы. Первая была посвящена романтизму, вторая — салону, третья — модернизму, а четвёртая — постмодернизму, и на каждой из них рисовались такие иллюстрации из этих периодов, описанных Гоголем: слуга Степан, валенок, художник с чашкой чая перед мольбертом. Такие скромные, трогательные картины. Вторая картина: личико Психеи превращается в личинку. Лицо — личико — личинка. Третий период: после того, как он уже превратился в личинку, он начинает собирать талантливые произведения своих коллег и резать их ножом. У Паши такая схема, изображающая ножом вспоротый холст. И последняя схема — множащиеся портреты этого азиата в чалме с безумным взглядом, ростовщика, как Уорхола.
Идея в том, что искусством со времён романтизма стали управлять деньги, и деньги привели искусство к тому, чем оно сейчас стало, то есть постмодернизмом. Дополнительно к этим четырём схемам мной был написан портрет этого старика, состарен в Русском музее специалистами из их реставрационной мастерской специальным лаком. Вставлены в раму были пятьдесят золотых червонцев, взятые по документации в том же Эрмитаже, а перед стариком была установлена железная труба, прикрученная к полу, изображавшая такой рычаг, от которого тянулись верёвочки к углам четырёх картин-схем, получалось шестнадцать верёвочек, так что весь зал представлял из себя такую паутину, сходившуюся на этом рычаге непосредственно перед портретом, написанным мной чисто по описанию Гоголя.
Портрет зверский, он остался, а Паша свою часть инсталляции потерял. Он сделал её на очень плохом оргалите с блестящей стороны, и она вся, стоя вот здесь у нас и хранясь, облезла, как сплошной лист, как отделяется латекс от несцепляемой поверхности. Очень жалко, сейчас с удовольствием бы видел эту инсталляцию снова. Поучительно. Совсем в духе того, что сейчас происходит.
М.Н. Вот летом в «Риджине» же была реплика другой инсталляции МГ, «Трубы долголетия».
И.Д. У них вообще все их инсталляции ранние… А «Боковое пространство сакрального», где они фотографировали иконы не в фас, а в три четверти, чтобы показать, что у иконы есть бок. Или «Ортодоксальные обсосы», которые были выставлены в Базеле, что ли: качественные крупные фотопортреты архимандритов, смотрящих прямо на зрителя, под которыми стояли блюдечки, на них лежали косточки, с веточками, но без мякоти. Их объедали и клали на блюдечко. Перед каждым стояло такое блюдечко с объеденными косточками. Называлось «Ортодоксальные обсосы». Сейчас попробуй такое выставить. «Осторожно, религия» отдыхает. 90-е были совершенно уникальными, не понятно, как это случиться могло вообще. Кажется, что весь бред, который вокруг творится, очень кратковременный. Не может быть такое долго.
М.Н. Как с этих позициий можно прокомментировать постулируемую нами необходимость возрождения искусства жизни, переноса акцентов на «голую жизнь»? Подлинным продуктом является не продукт, привязанный к рынку, а сам процесс. И вопросы эстетические так же должны быть перенесены в эту сферу.
И.Д. Это правильно.
И Сезанн отвечает вам на эти вопросы,
он всю дискурсивную историю переносит в пластическую тему своей жизни. Да, вот хотел сказать ещё что мне мерещится в том, что говорит о жизнетворчестве Сергей Ануфриев. Это то, что мир становится снова античным, соответственно, живопись наряду с другими формами искусства занимает только какую-то отдельную часть. Стоит нам всем помнить, что жизнь это не только искусство, но многое-многое другое. Если считать, что продуктом Сезанна были его картины, то это будет не совсем правильно. Продукта было мало, продукт был не первого сорта, продукт был не товарный, продукт был, в общем, не продукт, но эта его упёртость, его преданность и бескорыстность по отношению к поиску идеала, приводящему его иногда к удачам, иногда к поражениям, и является его жизнью, запечатлённой в его артефактах. Художник и есть — жизнь, запечатлённая в артефактах.
Почему Модильяни вот такой?
Потому что он пил вино и жахался героином, и не жил у себя дома, жил по друзьям и писал картины на чём попало, но при этом не терял художнический облик, и вопросы формы занимали его даже в самом униженном его состоянии, и конечно же, мы отдаём дань не только искусству этого художника, но нам кажется, что на искусстве его условия жизни тоже отразились, его готовность идти до конца в своей неадекватности. Как бы, были варианты. Из хорошей еврейской семьи итальянской, эх занесло пацана. Зато девушки любили, друзей было много, вообще жизнь была прекрасная. Я, во всяком случае, когда о нём читал, будучи подростком, я завидовал. Это всё видно в его образах, вся его жизнь в этих образах есть.
Необязательно это перекладывать так на литературу, как было в девятнадцатом веке, но надо считать, что если этого нет, не чувствуется, если чувствуется чистая схема, когда художник знает, как положить краски, и механически это делает, у него нет использования метода для постижения, у него есть ретрансляция метода. Если мы видим такого, он кажется нам уже несовременным художником, хотя таких сейчас большинство.
М.Н. Механически класть краску может робот, у группы «Гутай» была такая история
с механизмом, который кидался краской. Были мобили Жана Тэнгли. Или Аниш Капур.
Е.Д. С другой стороны, творчество Кабакова было во многом основано на этом
механистичном и антихудожественном ощущении. Автоматизм в искусстве ещё частенько занимал психиатров.
И.Д. О да. Ведь художник всегда исследует собственное восприятие.
[Пауза]
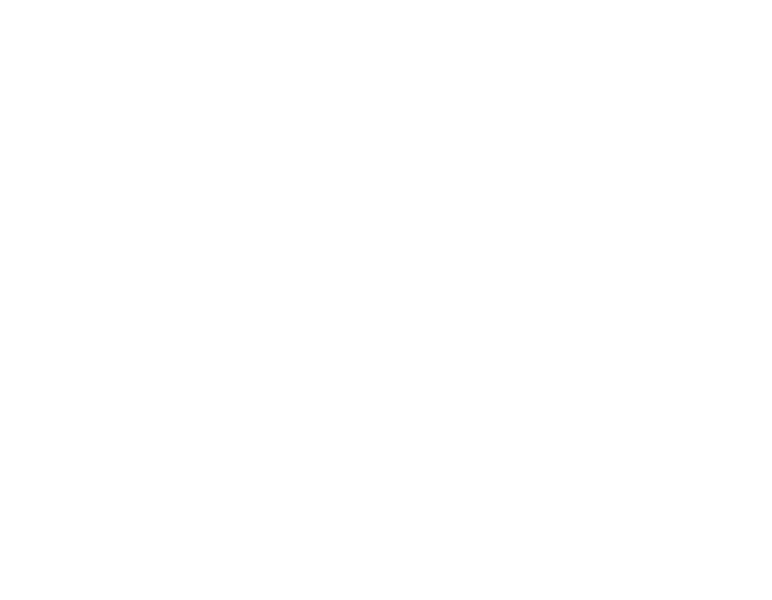
Егор Дмитриев. Фото: Митя Нестеров
И.Д. Я вообще не знаю, кто может иметь успех на рынке современного искусства, кажется, гораздо больший успех можно иметь на рынке искусства по производству картин под Шишкина, всё-таки. Может быть, время это уже и прошло, но мимо современного существует гигантский рынок искусства как такового. Он очень интересен именно тем, что там нет правил. Если на этом рынке правила установлены, то там правил никто не устанавливает, и если сейчас катят картины халтурного качества, не факт, что завтра это будет так же. Зритель становится всё более и более изощрённым, изысканным.
Я имел опыт продажи картин англичанам с целью украшения их жилищ, у них хороший вкус у многих. Они предпочитают даже аскетичную эстетику эстетике избыточности, хотя есть приверженцы и этого. Британский рынок никогда не считал современное искусство всем рынком, вот сколько я ни смотрел английских журналов, там всегда очень много живописи, всевозможной, примерно как было в левом МОСХе в брежневские времена. Там тоже есть современное искусство, вроде Хёрста, но сами англичане не совсем их относят к художникам, они их относят к медиа-магнатам скорее, как мы относимся к Никасу Сафронову. Это человек, у которого немножечко другая профессия, может быть, не менее благородная.
Е.Д. Шоу-бизнес.
И.Д. У художника очень часто пути или в шоу-бизнес, или в дизайн, там большие деньги, гораздо большие, чем у художников, продающих свои картины, например, через галерею со звучным названием «Триумф».
Е.Д. В совриске есть что-то похожее на то, что было при совке: народное, заслуженное, персоналка. Дидактическое, увещевательное видео любил на выставках неоклассицизма показывать Тимур Новиков.
И.Д. После «Золотого сечения» можно в любом костюме выходить, и будет весело.
Тимур живой, живее всех живых.
М.Н. Тимур Петрович — это один из лучших примеров реализации жизнетворческой, возрожденческой концепции, в том числе и применительно к рынку, пусть и в несколько иных условиях. И потом, многие его работы сложно атрибутировать.
И.Д. Почему?
Е.Д. Живопись несложно, пока был зрячий и писал. Прожив много с его живописью, я бы наверное отличил фейк. Живописи Тимура совсем немного на рынке.
М.Н. Ведь живопись у Новикова кончается в 80-е, всё переходит на тряпочки, которые делал не Тимур, которые делаются до сих пор. Можно вспомнить скандал с подделками у Маркина. Как раз тряпки сложно атрибутировать, если вообще необходимо.
Е.Д. На Арт Москве старая живопись Тимура 80-х годов стоила через лондонскую галерею двадцатку евро. Что это за цена для художника в Третьяковской галерее, который уже умер и, понятно, дешевле не станет. Живопись явно оригинальная, потому что я даже знаю, кто её продавал, я позвонил Ксюше, узнал, всё проверил, всё понятно. Недорого, очень, и это как раз из–за ситуации с тряпочками такие цены. Я кстати был на той выставке у Маркина, и Ксюша была вся красная в день открытия, потому что выглядел Тимур как Симачёв. Такие яркие дизайнерские работы акрилом, чудовищное солнышко, горизонт, сиреневая вода, жёлтое небо, такой талантливый дизайн принтов для одежды.
Кстати, у Новых художников мощнейшая преемственность была по отношению к тридцатым годам. Именно у Новых художников, а не у Новой Академии, потому что Академия — это уже постмодернистский проект, а Новые художники — модернисты, последователи Трауба. Котельников эту тему развивает, Иван Сотников — до сих пор очень мощный художник, причём он в Питере продаёт через антикварку. Я захожу в антикварку в Питере, смотрю, что-то знакомое, спрашиваю, не Новые ли это художники, и мне отвечают, да, это Иван Сотников, он нам носит продавать новые работы, и совсем недорого, пятьдесят тысяч рублей. Похоже на раннего Тимура, но в более устоявшейся какой-то манере.
И.Д. Это такой экспрессионизм очень тонкий. А я хотел сказать вот что. Мне кажется, альтернатива ещё в искусстве новом, относительно современном искусстве, это материал. Художники из обсуждаемого круга и вообще вся традиция питерского круга художников — она вокруг материала.
Модернизм имеет смысл, как открытие людям снова красок, фактуры.
Е.Д. Есть такая книжка Маркова [Владимира Ивановича] «Фактура», её переиздал Котельников в Питере, это такая монография человека, учившегося в Академии, где всё искусство, включая архитектуру и скульптуру, через фактуру понимается, очень насыщено примерами. Гениальный был, любовь Варвары Бубновой.
И.Д. Но это всё недалеко от Фаворского. То есть, опять же, человек, утверждавший, что линогравюру не режут так же, как ксилографию, что ксилография у вас получится одна, а линогравюра другая, что акварель это то, а скульптура — это. Иделогией школы Фаворского был материал и его выразительные свойства, против подражания одному посредством другого, литографией акварели, например.
Е.Д. В музыке то же произошло из–за компьютера, музыканты получили неограниченный материал, безграничные возможности и потеряли свойства, которые были у музыки 80-х и 90-х, когда аналоговые синтезаторы и семплеры были ограничены в возможностях.
И.Д. Потеряли стиль. Возврат происходит и будет происходить по этой линии: модернизм, материал, что-нибудь ещё, наверное. (Улыбается).
М.Н. В недавно изданной книге о Дюшане говорится, что жест оставления им живописи является продолжением традиции Сезанна…
Е.Д. Он бы прекратил тогда, что же всё время так мучиться.
И.Д. Дело в том, что он не мучился. Это было существование натурфилософа. Он был в порядке. В отличие от Ван-Гога, который как-то там страдал, Сезанн был в абсолютном порядке. Он был очень расколбашенный, у него была психика никуда, он всё время боялся, что его кто-нибудь закрючит, но в принципе, комфортная жизнь в Провансе и шляпный бизнес, оставленный папой, давали ему возможность жить как буржуа. Прелестный старик, немножечко желчный. Дружил с Рильке.
Вот ещё интересную вещь про него говорил Эмиль Бернар, что Сезанн не просто копирует натуру, он из неё берёт выразительные средства, то есть он всё оценивает с точки зрения формального звучания, то есть каждая значимость обладает ещё и музыкальной составляющей в этой гармонии, соответственно, и ритмом, и модальностью, и в общем, это должно составлять концепт, то есть гору, или там, чашку, но сами по себе эти валёры, эти ритмы его пластического произведения, его поверхностного закрашивания, где жидко, где густо, где по несколько раз… не неряшливо, весьма и весьма продуманно… Мне кажется, это имело громадное значение.
И в этом смысле, концептуализм пренебрегает поверхностью.
На этот счёт у Кабакова был даже текст, где он сравнивает художников, делит их на две группы, тех, кто рисует лошадь там и тех, кто рисует лошадь тут. Так вот, любому практикующему художнику ясно, что это очередной гон от Ильи, потому что любой практикующий художник рисует лошадь и там и тут, естественно. Просто он тем самым оттеняет потерю… вернее, как бы дирекцию современной культуры на смысл, прочь от поверхности. Мы рисуем… Я и реалисты, мы рисуем лошадь там. А вот эти все вот дизайнеры, они все здесь мажут её. Извините… Без дизайна ваше изображение будет депрессивным, в нём не будет музыки. Оно будет иметь смысл, но депрессия, которую оно будет вызывать, будет заставлять не смотреть на этот смысл.
Поэтому любой предмет лично для меня обладает двумя связанными друг с другом элементами: своей графической структурой и смыслом. Скажем, циркуль — это графика, как предмет даже изображёный, а тряпка — это бесконечная структура алогичная, но, однако, наличествующая, то есть это не горох, но и не фактура. Фрукт — это пятно яркого цвета. У всех предметов есть своя краска помимо смысла.
Вот Сезанн и модернисты отмечали именно то, что у предметов есть эта субстанция формальная, кем они являются, линией в орнаменте или заливкой внутри, и отрицать это бессмысленно, всё равно, что отрицать что то, что мы видим — это Майя. Кабаков, видимо, думает, что то, что мы видим — это реальность. Флаг ему в руки, я представляю, как стареть с этой мыслью, что всё это реальность. Исчезать для реальности. Это ковёр, ему гораздо легче.
Майя, хм. Занавес. Он сам то это знает, но постулируя, что смысл важнее формы, он отрицает эту ковровость картины, её мозаичность. Он говорит, нет, свет-тень, это не важно, важен концепт, линия, окружающая предмет, то есть отделяющая его от пространства, а не вписывающая его в пространство. А любой практикующий знает, что нужно и вписывать, и отделять, чтобы было впечатление верное.
Если ты чего-то не делаешь, значит ты стилизуешь,
а он из этого статейки пописывает. Из своего недолгого опыта обучения в Суриковском институте. И хватило, хватило. Между прочим, очень зря люди отказываются от классического художественного образования, потому что оно даёт почву для постоянного изобретения новых стилей. Ведь любое изобретение нового стиля — это выделение того или иного элемента общего синтетического искусства. Кубизм — это выделение конструктивного элемента, ташизм — декоративно-прикладного. А Левитан владел и тем, и этим, и всё сливал в концепт.
Я имел опыт продажи картин англичанам с целью украшения их жилищ, у них хороший вкус у многих. Они предпочитают даже аскетичную эстетику эстетике избыточности, хотя есть приверженцы и этого. Британский рынок никогда не считал современное искусство всем рынком, вот сколько я ни смотрел английских журналов, там всегда очень много живописи, всевозможной, примерно как было в левом МОСХе в брежневские времена. Там тоже есть современное искусство, вроде Хёрста, но сами англичане не совсем их относят к художникам, они их относят к медиа-магнатам скорее, как мы относимся к Никасу Сафронову. Это человек, у которого немножечко другая профессия, может быть, не менее благородная.
Е.Д. Шоу-бизнес.
И.Д. У художника очень часто пути или в шоу-бизнес, или в дизайн, там большие деньги, гораздо большие, чем у художников, продающих свои картины, например, через галерею со звучным названием «Триумф».
Е.Д. В совриске есть что-то похожее на то, что было при совке: народное, заслуженное, персоналка. Дидактическое, увещевательное видео любил на выставках неоклассицизма показывать Тимур Новиков.
И.Д. После «Золотого сечения» можно в любом костюме выходить, и будет весело.
Тимур живой, живее всех живых.
М.Н. Тимур Петрович — это один из лучших примеров реализации жизнетворческой, возрожденческой концепции, в том числе и применительно к рынку, пусть и в несколько иных условиях. И потом, многие его работы сложно атрибутировать.
И.Д. Почему?
Е.Д. Живопись несложно, пока был зрячий и писал. Прожив много с его живописью, я бы наверное отличил фейк. Живописи Тимура совсем немного на рынке.
М.Н. Ведь живопись у Новикова кончается в 80-е, всё переходит на тряпочки, которые делал не Тимур, которые делаются до сих пор. Можно вспомнить скандал с подделками у Маркина. Как раз тряпки сложно атрибутировать, если вообще необходимо.
Е.Д. На Арт Москве старая живопись Тимура 80-х годов стоила через лондонскую галерею двадцатку евро. Что это за цена для художника в Третьяковской галерее, который уже умер и, понятно, дешевле не станет. Живопись явно оригинальная, потому что я даже знаю, кто её продавал, я позвонил Ксюше, узнал, всё проверил, всё понятно. Недорого, очень, и это как раз из–за ситуации с тряпочками такие цены. Я кстати был на той выставке у Маркина, и Ксюша была вся красная в день открытия, потому что выглядел Тимур как Симачёв. Такие яркие дизайнерские работы акрилом, чудовищное солнышко, горизонт, сиреневая вода, жёлтое небо, такой талантливый дизайн принтов для одежды.
Кстати, у Новых художников мощнейшая преемственность была по отношению к тридцатым годам. Именно у Новых художников, а не у Новой Академии, потому что Академия — это уже постмодернистский проект, а Новые художники — модернисты, последователи Трауба. Котельников эту тему развивает, Иван Сотников — до сих пор очень мощный художник, причём он в Питере продаёт через антикварку. Я захожу в антикварку в Питере, смотрю, что-то знакомое, спрашиваю, не Новые ли это художники, и мне отвечают, да, это Иван Сотников, он нам носит продавать новые работы, и совсем недорого, пятьдесят тысяч рублей. Похоже на раннего Тимура, но в более устоявшейся какой-то манере.
И.Д. Это такой экспрессионизм очень тонкий. А я хотел сказать вот что. Мне кажется, альтернатива ещё в искусстве новом, относительно современном искусстве, это материал. Художники из обсуждаемого круга и вообще вся традиция питерского круга художников — она вокруг материала.
Модернизм имеет смысл, как открытие людям снова красок, фактуры.
Е.Д. Есть такая книжка Маркова [Владимира Ивановича] «Фактура», её переиздал Котельников в Питере, это такая монография человека, учившегося в Академии, где всё искусство, включая архитектуру и скульптуру, через фактуру понимается, очень насыщено примерами. Гениальный был, любовь Варвары Бубновой.
И.Д. Но это всё недалеко от Фаворского. То есть, опять же, человек, утверждавший, что линогравюру не режут так же, как ксилографию, что ксилография у вас получится одна, а линогравюра другая, что акварель это то, а скульптура — это. Иделогией школы Фаворского был материал и его выразительные свойства, против подражания одному посредством другого, литографией акварели, например.
Е.Д. В музыке то же произошло из–за компьютера, музыканты получили неограниченный материал, безграничные возможности и потеряли свойства, которые были у музыки 80-х и 90-х, когда аналоговые синтезаторы и семплеры были ограничены в возможностях.
И.Д. Потеряли стиль. Возврат происходит и будет происходить по этой линии: модернизм, материал, что-нибудь ещё, наверное. (Улыбается).
М.Н. В недавно изданной книге о Дюшане говорится, что жест оставления им живописи является продолжением традиции Сезанна…
Е.Д. Он бы прекратил тогда, что же всё время так мучиться.
И.Д. Дело в том, что он не мучился. Это было существование натурфилософа. Он был в порядке. В отличие от Ван-Гога, который как-то там страдал, Сезанн был в абсолютном порядке. Он был очень расколбашенный, у него была психика никуда, он всё время боялся, что его кто-нибудь закрючит, но в принципе, комфортная жизнь в Провансе и шляпный бизнес, оставленный папой, давали ему возможность жить как буржуа. Прелестный старик, немножечко желчный. Дружил с Рильке.
Вот ещё интересную вещь про него говорил Эмиль Бернар, что Сезанн не просто копирует натуру, он из неё берёт выразительные средства, то есть он всё оценивает с точки зрения формального звучания, то есть каждая значимость обладает ещё и музыкальной составляющей в этой гармонии, соответственно, и ритмом, и модальностью, и в общем, это должно составлять концепт, то есть гору, или там, чашку, но сами по себе эти валёры, эти ритмы его пластического произведения, его поверхностного закрашивания, где жидко, где густо, где по несколько раз… не неряшливо, весьма и весьма продуманно… Мне кажется, это имело громадное значение.
И в этом смысле, концептуализм пренебрегает поверхностью.
На этот счёт у Кабакова был даже текст, где он сравнивает художников, делит их на две группы, тех, кто рисует лошадь там и тех, кто рисует лошадь тут. Так вот, любому практикующему художнику ясно, что это очередной гон от Ильи, потому что любой практикующий художник рисует лошадь и там и тут, естественно. Просто он тем самым оттеняет потерю… вернее, как бы дирекцию современной культуры на смысл, прочь от поверхности. Мы рисуем… Я и реалисты, мы рисуем лошадь там. А вот эти все вот дизайнеры, они все здесь мажут её. Извините… Без дизайна ваше изображение будет депрессивным, в нём не будет музыки. Оно будет иметь смысл, но депрессия, которую оно будет вызывать, будет заставлять не смотреть на этот смысл.
Поэтому любой предмет лично для меня обладает двумя связанными друг с другом элементами: своей графической структурой и смыслом. Скажем, циркуль — это графика, как предмет даже изображёный, а тряпка — это бесконечная структура алогичная, но, однако, наличествующая, то есть это не горох, но и не фактура. Фрукт — это пятно яркого цвета. У всех предметов есть своя краска помимо смысла.
Вот Сезанн и модернисты отмечали именно то, что у предметов есть эта субстанция формальная, кем они являются, линией в орнаменте или заливкой внутри, и отрицать это бессмысленно, всё равно, что отрицать что то, что мы видим — это Майя. Кабаков, видимо, думает, что то, что мы видим — это реальность. Флаг ему в руки, я представляю, как стареть с этой мыслью, что всё это реальность. Исчезать для реальности. Это ковёр, ему гораздо легче.
Майя, хм. Занавес. Он сам то это знает, но постулируя, что смысл важнее формы, он отрицает эту ковровость картины, её мозаичность. Он говорит, нет, свет-тень, это не важно, важен концепт, линия, окружающая предмет, то есть отделяющая его от пространства, а не вписывающая его в пространство. А любой практикующий знает, что нужно и вписывать, и отделять, чтобы было впечатление верное.
Если ты чего-то не делаешь, значит ты стилизуешь,
а он из этого статейки пописывает. Из своего недолгого опыта обучения в Суриковском институте. И хватило, хватило. Между прочим, очень зря люди отказываются от классического художественного образования, потому что оно даёт почву для постоянного изобретения новых стилей. Ведь любое изобретение нового стиля — это выделение того или иного элемента общего синтетического искусства. Кубизм — это выделение конструктивного элемента, ташизм — декоративно-прикладного. А Левитан владел и тем, и этим, и всё сливал в концепт.
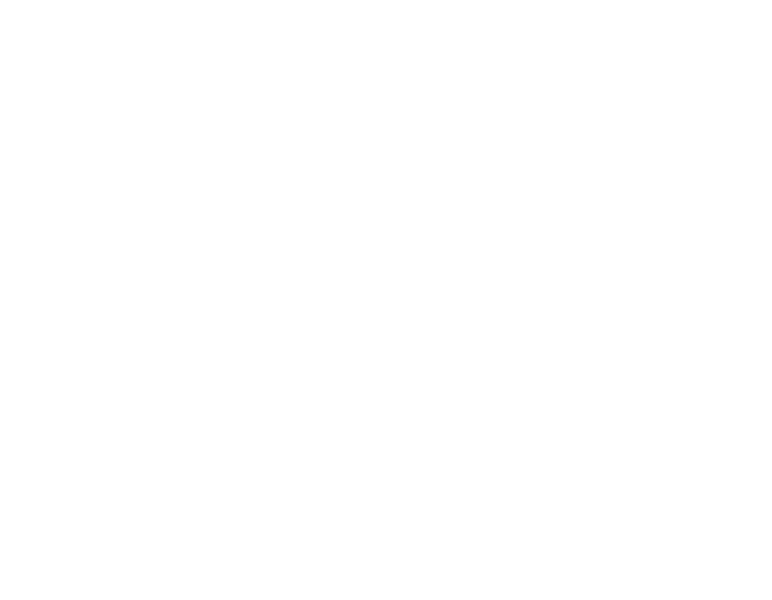
Иван Дмитриев. Фото: Митя Нестеров
М.Н. Наименования из истории искусств теряют свою наполненность?
И.Д. Ты знаешь, они для меня вновь наполнились, но именно через отрицание. Я долгое время отрицал всё это, потом вдруг начал понимать, что без этого постно, слишком постненько.
М.Н. Получается, что паттернизм — суть не только очередная попытка написания некой новой грамматики визуального языка, который, в принципе, призван заменить письменную культуру как таковую.
И.Д. Иероглифы? Или нечто подобное иероглифам?
М.Н. Вплоть до того, что буква на экране не является знаком алфавита, а является пиктограммой, элементом программы, и чтение с экрана — это не чтение больших связных печатных текстов. Это слом культурной парадигмы, сравнимый с заменой свитков пергаментом, рукописных книг печатными. И в этом плане паттернизм одновременно с разработкой новой визуальной грамматики занят противоположной, ретроградной историей возврата к традиции модернизма.
И.Д. Провоцировать модернизм будет новая постановка литературной задачи, то есть идеология потребует более сложных форм. Идеология нынешняя — это идеология бренда, грубо говоря, Мерседес-Бенц или Кока-Кола, но происходит усталость от этих навязчивых броских символов, они уже не запоминаются. Задача будет ставится на усложнение художественного образа, даже рекламного и, соответственно, приобретёт гораздо большее значение фактура, наполение, женское. Женское начало приобретёт в искусстве свою роль, даже не большую, чем концепт, а как бы выравняется, гармонизирует концепт наполнением.
М.Н. Есть понятие «женского искусства».
И.Д. Да, знаю, но для меня это не связано. Когда я говорю «женское» в искусстве, это то, чем занимаются и мужчины, это как бы мягкое. Когда мы сражаемся, мы обязаны не только акцентировать, но обязаны и течь, когда в нас попадают.
Быть поражённым не менее важно, чем поражать.
Быть поражённым, то есть растворяться в материале, вот этого не хватает современному мышлению, оно очень маскулинное, агрессивное и логичное, а образу требуется, то есть человеку, глядящему на образ, требуется возможность иной его интерпретации. May be, may be not.
Звёзды Беляевские для этого слишком очевидны, это масло масляное. Звёзды, красные, на золотом фоне, и даже нигде белого левкаса нет, даже он убран из дизайна, только золото и красное. I’m stuffed. Я набит уже сразу, с первой работы, дальше я смотреть не хочу. А искусство должно сместиться в ту сторону, когда меня будет останавливать, но дальше мне надо будет его рассмотреть, мне захочется с ним побыть, оно должно как аттракцион меня всосать.
Вот звёзды меня не всасывают, они меня отталкивают, и очень многое в современном искусстве так: я на него, а оно мне навстречу, и мы так бдыщ, и побежали в разные стороны. Не хватает увязнуть в нём, улететь в него. Мне кажется, эта волшебная сила абсолютно не используется современным искусством, оно только раздаёт подзатыльники, вместо того, чтобы пощекотать. Шутка.
Митя, я буду работать…
И.Д. Ты знаешь, они для меня вновь наполнились, но именно через отрицание. Я долгое время отрицал всё это, потом вдруг начал понимать, что без этого постно, слишком постненько.
М.Н. Получается, что паттернизм — суть не только очередная попытка написания некой новой грамматики визуального языка, который, в принципе, призван заменить письменную культуру как таковую.
И.Д. Иероглифы? Или нечто подобное иероглифам?
М.Н. Вплоть до того, что буква на экране не является знаком алфавита, а является пиктограммой, элементом программы, и чтение с экрана — это не чтение больших связных печатных текстов. Это слом культурной парадигмы, сравнимый с заменой свитков пергаментом, рукописных книг печатными. И в этом плане паттернизм одновременно с разработкой новой визуальной грамматики занят противоположной, ретроградной историей возврата к традиции модернизма.
И.Д. Провоцировать модернизм будет новая постановка литературной задачи, то есть идеология потребует более сложных форм. Идеология нынешняя — это идеология бренда, грубо говоря, Мерседес-Бенц или Кока-Кола, но происходит усталость от этих навязчивых броских символов, они уже не запоминаются. Задача будет ставится на усложнение художественного образа, даже рекламного и, соответственно, приобретёт гораздо большее значение фактура, наполение, женское. Женское начало приобретёт в искусстве свою роль, даже не большую, чем концепт, а как бы выравняется, гармонизирует концепт наполнением.
М.Н. Есть понятие «женского искусства».
И.Д. Да, знаю, но для меня это не связано. Когда я говорю «женское» в искусстве, это то, чем занимаются и мужчины, это как бы мягкое. Когда мы сражаемся, мы обязаны не только акцентировать, но обязаны и течь, когда в нас попадают.
Быть поражённым не менее важно, чем поражать.
Быть поражённым, то есть растворяться в материале, вот этого не хватает современному мышлению, оно очень маскулинное, агрессивное и логичное, а образу требуется, то есть человеку, глядящему на образ, требуется возможность иной его интерпретации. May be, may be not.
Звёзды Беляевские для этого слишком очевидны, это масло масляное. Звёзды, красные, на золотом фоне, и даже нигде белого левкаса нет, даже он убран из дизайна, только золото и красное. I’m stuffed. Я набит уже сразу, с первой работы, дальше я смотреть не хочу. А искусство должно сместиться в ту сторону, когда меня будет останавливать, но дальше мне надо будет его рассмотреть, мне захочется с ним побыть, оно должно как аттракцион меня всосать.
Вот звёзды меня не всасывают, они меня отталкивают, и очень многое в современном искусстве так: я на него, а оно мне навстречу, и мы так бдыщ, и побежали в разные стороны. Не хватает увязнуть в нём, улететь в него. Мне кажется, эта волшебная сила абсолютно не используется современным искусством, оно только раздаёт подзатыльники, вместо того, чтобы пощекотать. Шутка.
Митя, я буду работать…
Поделиться: